За кулисами загорелось. Клоун выскочил предупредить публику. Решили, что он шутит, и давай аплодировать. Он повторяет — еще более неистовый восторг. Сдается мне, пробьет час, и мир рухнет при общем восторге умников, воображающих, что и это — буффонада.
Серён Кьеркегор, из «Афоризмов эстетика»
Бытие или Ничто? Вот в чём вопрос.
Современная ситуация наша такова, что человек перестает жить человеком. Понять это можно и так — и без Кьеркегора, Ницше, Шестова, Бонхеффера, Хайдеггера. Но лучше с ними. С ними понимание становится уверенней и глубже.
Начну с краткого рассказа о своем понимании результатов поиска бытия у каждого из них, а потом подитожу и расскажу о своих выводах, о том, что нам с этого.
Возможно кто-то захочет меня упрекнуть, что, дескать, ты «куришь» этих авторов как-то сильно по-своему, что в научной литературе так не принято и прочее. Что Кьеркегор это — то и сё (философский биллетрист и никакой ни теолог, например), что Ницше и ни то и ни сё (либо гений, но не злой, либо злой, но не гений), и что портайгеноссе Хайдеггер вообще никакой ни портайгеноссе, и что его бытие это точно Бог, или, напротив, точно не Бог. А Бонхеффер — это скорее социально-политический философ, чем пророк и праведник. К тому же он курил, был шпионом и заговорщиком. Что ж, с этим мне, наверное, придется просто согласиться, что я не вполне согласен, но каждый мается как ему нравится. Но, думается мне, что если и писать что-то, так писать именно свое — собою выстраданное и пережитое, на себе проверенное, с собою самим сообразованное. И ещё: я пишу и думаю без того, чтобы стараться выдержать академический стиль, а для того, чтобы донести хотя бы до некоторых то, что сам обрёл. Поэтому, хотя порою мне и приходится использовать наукообразный, мудреный и плохо понятный язык, заставляющий подсматривать в словари, это совсем не значит, что мне самому это сильно нравится, а просто значит, что слов попонятней и попроще под рукой не оказалось.
Ни в коем случае я здесь не претендую на полный охват темы. Если уж Михаил Бахтин, известный наш философ, чтобы читать Кьеркегора в подлиннике, специально выучил датский, то кто я то такой, чтобы говорить, что я полностью понял его или остальных. Но каждый вправе иметь своё суждение. Вот вам моё.
У КЬЕРКЕГОРА, прожившего всего 42 года и умершего в 1855-м в Дании, вопрос о бытии ставится как вопрос о соотношении этики и веры как второй и третьей ступенек на его трёхступенчатой экзистенциальной лествице — 1) Эстетика, 2) Этика, 3) Религия (вера). Он видит проблему в том, что в религии на место веры как сложной цели, ставится вера как простое средство. Возможно именно в такой форме у К. этого и не найти, но если суммировать его размышления о вере, уверен, так можно сказать. Таким образом он прослеживает, как людьми, его окружающими — добрыми протестантами, в основном — совершается опасная и преступная подмена. Преступная как по отношению к себе, так и к вере. Поскольку вера как средство есть Ничто — дешевка, пустышка, самообман. С судьбой этой подмены связана и судьба теряющего общественный авторитет христианства.
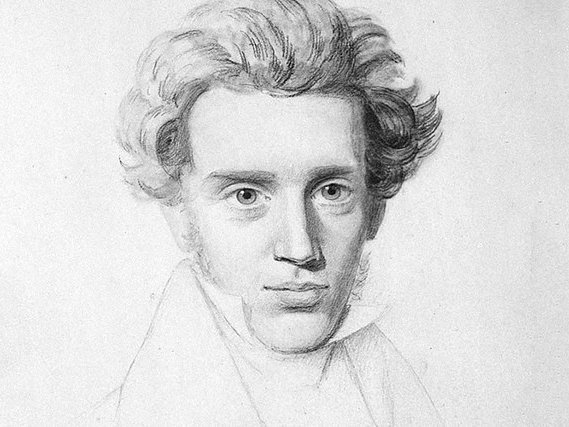
Наиболее яркий для меня сюжет разворачивается у него в лицах — в противопоставлении веры «рыцарей веры», таких как Авраам или Иов, и множества версий веры всевозможных «рыцарей долга» или «трагических героев» — от Иеффая, хладнокровно убившего свою дочь по обещанию, до Гегеля, умудрившегося сделать вид что понял и объяснил весь мир — включая, Дух, Бога и веру. С одной стороны на третьей и главной ступени — через страх и трепет преодолевающая не только сомнения, но и этику — вера, с другой — долг, право, этика, догма, закон, бесстрашно и бестрепетно сразу знающие ответы на главные вопросы.
Рыцарь веры сам есть парадокс, он есть единичный индивид, абсолютно лишь единичный индивид, лишенный всяких связей и подробностей. В этом и состоит ужасное, которого не способен вынести жалкий сектант.
Серён Кьеркегор, «Страх и трепет»
Рыцарь веры предоставлен самому себе в одиночестве, он ощущает боль оттого, что не может стать понятным для других, однако он не чувствует никакого тщеславного желания указывать путь этим другим. Боль и есть его уверенность, он не знает тщеславных страстей, для этого его душа слишком серьезна. Неистинный рыцарь быстро выдает себя той умелостью, которую он обретает буквально в одно мгновение.
Серён Кьеркегор, «Страх и трепет»
Когда вместо ужасов жизненного поиска библейского Иова выбирается поверхностная «вера» его друзей. Когда человек вместо совершенно не понятного пути веры Авраама — с его одинокими, никому не понятными и страшными выборами: сначала требование сына, потом готовность принести в жертву, потом вера в «Бог усмотрит себе агнца для заклания», — выбирает хоть и скучный, но зато понятный путь трагедии и долга. Кьеркегор считает, что в одной книге Иова больше мудрости, чем во всём творчестве Гегеля. Он ставит иррациональный поиск веры выше всех философов, даже выше Сократа. А что такое жизнь Иова? Это вера через страх, ужас и бедствия рискованного и жутко непонятного поиска подлинных оснований бытия. А друзья ничего другого не могут, как только читать ему нотации.
Вот так в лоб желающих попробовать судьбу Иова на вкус не существует вообще — с потерей всей семьи и всего богатства, всего здоровья и всех друзей, да и всякой надежды. Мы, наоборот, хотим комфортной веры, веры, дающей нам преуспевание, обеспечивающей признание и репутацию, здоровье и всеобщую любовь, дающей хорошую жизнь. А от Иовов с Авраамами мы бежим как от огня, как от странных и сумасшедших чудаков, как от преступников всех наших идеалов. И хотя со стороны Иов может и вызовет порой у кого-то захолонувший вздох сочувствия и даже кому-то даст на короткое время пионерское воодушевление, но, всё равно, в итоге мы приходим к тому, что таких рисков нам не нужно. К тому, что если единственная настоящая вера это ВОТ ЭТО, то тогда мы её не хотим. Тогда нам лучше её чем-то подменить. И чем больше не хотим, тем больше упрощаем поиск веры, пока не сводим её до умственного принятия и какой-то формы исповедания. До определенного размеренного ритуала от Пасхи до Пасхи. До простого и действенного средства достижения каких-то своих душевных и житейских целей, дающих покой, а, точнее, самоуспокоение. Хотя в основе такой «веры» её противоположность — страх. Страх потери репутации, достатка, комфорта, жизни. Смерть деформирует все наши мысли и чаяния страхом, и не даёт из этики открыться к вере.
Вся человеческая культура христианской ойкумены времён Кьеркегора оказывается пропитана основанными на такой вот вере «пастырскими проповедями». Проповедями, лишающими жизнь остатков здравого да и вообще любого смысла. Почему? Потому что уж лучше вообще не говорить ни о какой вере, чем говорить о такой вере. Почему? Потому что выбирая говорить такое человек делает выбор кем ему быть. И он его делает. Он делает выбор не быть собой. Не быть честным с самим собой. Быть придуманным и умозрительным собой для людей. Но для себя быть таким, которого нет. Что может быть ужаснее?
Худшая из опасностей — потеря своего Я — может пройти у нас совершенно незамеченной, как если бы ничего не случилось. Ничто не вызывает меньше шума, никакая другая потеря — ноги, состояния, женщины и тому подобного — не замечаются столь мало.
Серён Кьеркегор, «Болезнь к смерти»
Тут, по-моему, не нужно исключать и Россию. Некоторые это делают под тем предлогом, что, дескать, проблема таких «пасторских проповедей» в том, что они «западные», католическо-протестантские. А у нас, православных, все де по-другому. Но, как метко подметил отец Георгий Флоровский у Владимира Соловьева есть удачное описание наших, сугубо православных, метаморфоз. Заключается оно в том, что и мировое и русское православие наполнены «протестантизмом местного предания». Которое есть как раз подмена жизни веры проповедью долга в ни сколько не меньшей степени, чем на коллективном христианском Западе.



Вот что об этом говорит Кьеркегор:
«В прежние времена говаривали: «Жаль, что в мире никогда ничего не происходит по пасторским проповедям». Но, может быть, придет еще время — пожалуй, благодаря философии, — когда можно будет сказать: «К счастью, в мире никогда ничего не происходит по пасторским проповедям», ибо в жизни есть хоть какой-то смысл, а в его проповедях — совсем никакого.»
«Страх и трепет», Серён Кьеркегор.
У Кьеркегора впервые, кажется, ясно ставится вопрос о Ничто. О том, что можно существовать, но бытия не иметь. В «Понятии страха» он связывает Ничто с неведением и невинностью. И со страхом. Неведение невинности порождает Ничто, ничтойность, отсутствие борьбы. А это порождает страх.
«Невинность — это неведение. В невинности человек не определен как дух, но определен душевно, в непосредственном единстве со своей природностью. Дух в людях грезит. Такое толкование находится в полном согласии с Библией, которая отказывает человеку, пребывающему в невинности, в знании различия между добром и злом и тем самым выносит окончательный приговор всем католическим фантазиям о заслуге. В этом состоянии царствует мир и покой; однако в то же самое время здесь пребывает и нечто иное, что, однако же, не является ни миром, ни борьбой; ибо тут ведь нет ничего, с чем можно было бы бороться. Но что же это тогда? Ничто. Но какое же воздействие имеет ничто? Оно порождает страх. Такова глубокая таинственность невинности: она одновременно является страхом. В грезах дух отражает свою собственную действительность, однако эта действительность есть ничто, но это ничто постоянно видит невинность вне самого себя.»
«Понятие страха», Серён Кьеркегор.
При этом Ничто оказывается весьма деятельным, но лишенным смысла в том же смысле, в котором лишена смысла жизнь человека, придумавшего себя для других, «пригрезившего себя», но таковым не являющегося. Или человека, не имеющего никакого представления, пребывающего в полном неведении о смысле и истине своего бытия и просто плывущего по течению. Кьеркегор обозначает проблему как общечеловеческую. Мало того, он видит программу разрешения проблемы в экзистенциальной философии (отцом которой его принято сегодня считать), а не в религии долга, выдающей себя за веру. Вообще, он впервые ставит множество сегодняшних вопросов, которые думают величайшие умы. Почти всем своим экзистенциальным инструментарием ему обязан Хайдеггер и большинство современных философов. А Фуко некоторые прямо упрекают в том, что своим успехом он прежде всего обязан изнасилованию мыслей Кьеркегора.
Об отношении Кьеркегора к институтам христианства ярко говорит тот факт, что не не смотря на своё величайшее уважение к героям веры, от последнего причастия перед смертью Кьеркегор отказался.
ФРИДРИХ НИЦШЕ. Дальше те же вопросы, но совсем уже с ненавистью ко всей описанной культуре долга, поднимает «адвокат дьявола» и злой гений мировой христианской культуры, великий и ужасный (для христианства) Фридрих Ницше. Которого с идеями Кьеркегора познакомил вроде как Брандес в 1888.

Он говорит, что благодаря окончательно и бесповоротно насквозь лицемерной и лживой религии долга, человек научился отменно обманывать самого себя про свое знание Бога и веру в Бога, который давно умер. Которого просто нет.
Люди, в основном, обманывают сами себя… Обман других — относительно редок.
считал Ницше
При этом Ницше умудряется обойти стороной тайну самого Христа как исторической личности (похоже, для него это не главный вопрос), но доказать философски и филологически, что тот Христос, которого проповедуют пасторы, как живая и честно присутствующая в жизни верующих личность, давно уже умер. Его нет ни в их личной жизни, ни в жизни их общин, ни в христианской культуре. Он просто оказался им не нужен.
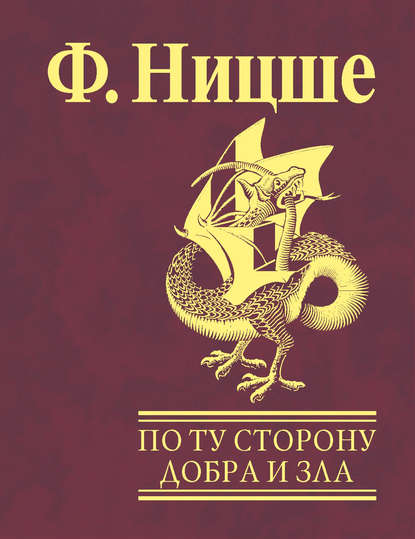
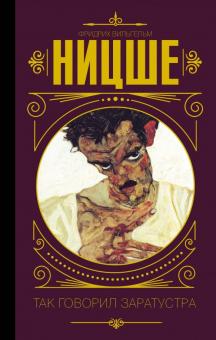
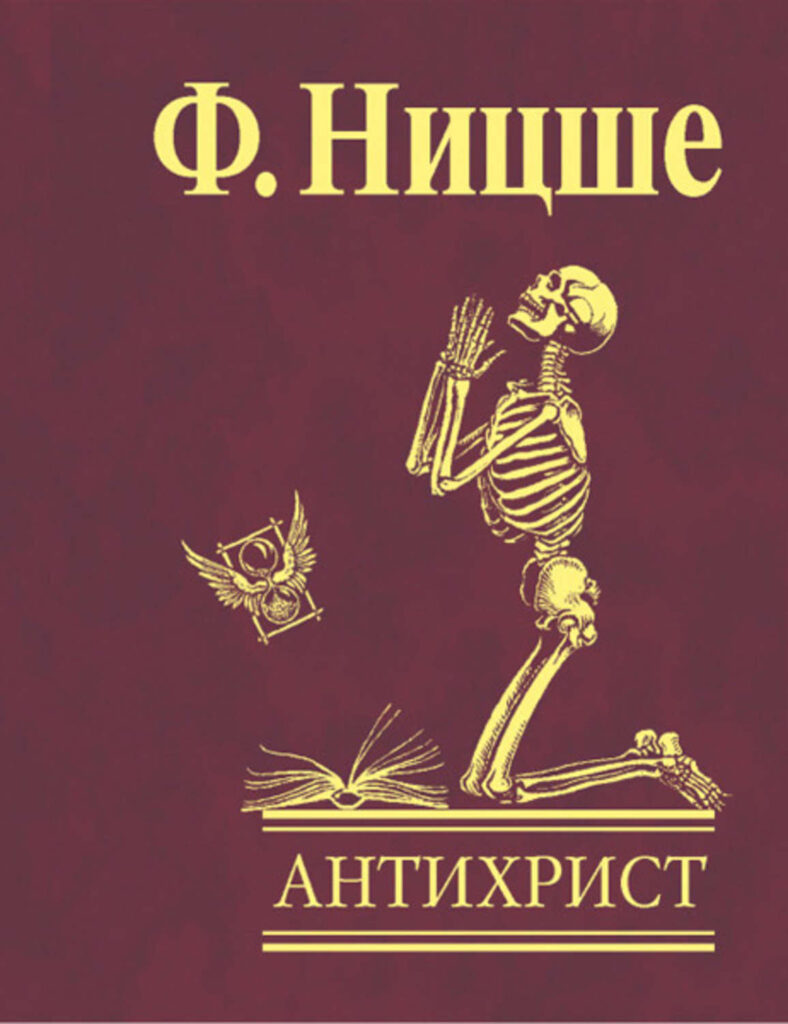

Кстати, эта мысль Ницше перекликается с идеей Достоевского, высказанной им устами Ивана Карамазова в рассказе о встрече Великого инквизитора, представляющего религиозную власть, и Христа. Которого, как говорят, Ницше читал.

Он утверждает, что всё современное ему религиозное действо есть большой и страшный клубок обмана и самообмана, построенного на трусливой и конформистской подмене веры долгом, свободы рабством, силы слабостью, честности ложью, добра злом, любви ненавистью и т.д. Доказать это Ницше удается настолько ярко, гениально и убедительно, что после него секуляризация, и без того уже шедшая полным ходом, приобретает лавинообразный, необратимый и культурообразующий характер.
Не поймите меня не правильно: я человек, ищущий Бога. Нашедший или нет — время покажет.
И, даже принимая критику Ницше, я, всё же, не считаю её окончательным вердиктом для веры, но, скорее, для религии в её определённых формах.
Но для меня использовать слово «вера» в современном контексте этики и религиозного долга является не менее неприемлемым, чем для Ницше и Кьеркегора. Говоря про Ницше я полностью разделяю две мысли о нём у Николая Бердяева. Одну про то, что Ницше боролся за общечеловеческую, а значит и православную и любую другую истину, и, тем самым, его гениальный поиск обладает общечеловеческим и соборным измерением:
В одном безбожнике Ницше было больше соборного духа, чем во всей православной церкви.
Николай Бердяев
И другую мысль Бердяева о том, что реакция Ницше — это реакция лишь на ту форму христианства, с которой единственно ему и довелось столкнуться:
Ницше был жертвой упадочного монофизитства в христианстве, отрицания человека и его творческого пути. Его мучила творческая жажда, и он не нашел её религиозного оправдания. Он восстал на Бога, потому что по сознанию его Бог не допускает творчества. Он знал только то старое христианское сознание, которое было враждебно творчеству человека.
Николай Бердяев «Философия свободного духа»
Не даром Ницше не утверждает, что Бога в принципе нет. Он лишь утверждает, что вот такого вот Бога — долга, этики, отсутствия творчества — нет. Почему? Потому что не может быть Творца без способности творить. А значит не может быть и образа Творца без способности творить. Он даже говорит:
Я бы поверил только в такого Бога, который умел бы танцевать. …Бог танцует во мне — так говорит Заратустра
Фридрих Ницше, «Так говорил Заратустра»
Я думаю, что не только я, но и всякий, вставший на путь интеллектуально честного экзистенциального поиска бытия человеком, не должен так обращаться с верой, как обращались и обращаются те люди и тот стиль жизни, на который так яростно и справедливо восстал Ницше. Об этом никто лучше Ницше не скажет за самого Ницше:
Зараза распространилась дальше, чем думают: богословский инстинкт «высокомерия» я обнаруживал везде, где люди в наши дни ощущают себя «идеалистами» и в силу высшего своего происхождения присваивают себе право глядеть на действительность неприязненно и свысока.
Идеалист что жрец, все высокие понятия у него на руках (да и не только на руках!), он с благожелательным презрением кроет ими и «рассудок», и «чувства», и «почести», и «благополучие», и «науку»: всё это ниже его, всё это вред и соблазн, над которыми в неприступном для-себя-бытии парит «дух»…
Пока признаётся существом высшего порядка жрец, этот клеветник, отрицатель и отравитель жизни по долгу службы, не будет ответа на вопрос: что есть истина? Если «истину» защищает адвокат отрицания и небытия, она уже вывернута наизнанку…
Объявляю войну инстинкту теолога: след его обнаруживаю повсюду. У кого в жилах течёт богословская кровь, тот ни на что не способен смотреть прямо и честно. На такой почве развивается пафос, именуемый верой: раз и навсегда зажмурил глаза, и уже не смущаешься своей неизлечимой лживостью.
Фридрих Ницше, «Антихрист»
Я считаю, что для жизни каждого важно понять, что, оставляя вере незавидную роль фарисейской маски он оказывает медвежью услугу и подкладывает свинью жизни «не самим собой» и себе, и ближнему, и человечеству в целом. Это как путать божий дар с яичницой в буквальном смысле. Но в нашей культуре, согласно всем, кого я здесь упоминаю, случилось именно так.
ЛЕВ ШЕСТОВ. Следующий мой собеседник по этому вопросу — парадоксальный мыслитель-провокатор Лев Шестов. В своих работах «Власть ключей», «Афины и Иерусалим», Апофеоз беспочвенности»

и других он убедительно доказывает, что в современной культуре называется бытием его противоположность — наукообразная логическая «необходимость», экспертно-логическая очевидность того, как всё должно происходить, которую мы родили сами своими страхами и попытками избегания и забвения смерти, и которая нам очень нравится — позитивная наукообразная ясность и эксплуатация этой ясности себе на пользу.
Но при этом мы исчезаем сами как люди, как те, кто не боится смотреть в глаза смерти. Как те, кто ищет истины бытия. Почему? Потому что мы больше её не ищем. Истина нам больше не нужна. Нам достаточно логической ясности и необходимости, что понятна и комфортна. Необходимость, заданная нами самими нас подчиняет, но она же нам и помогает забыть о своих страхах (а на деле — о своем небытии). Она нас обманывает, но мы хотим быть обманутыми. Вот такая вот выходит беспочвенность. Польза есть, а нас нет.
Это как какое-то колдовство, наваждение. Ведь главный смысл колдовства — исключение вопроса о смерти. Человек, исключающий вопрос о смерти — исчезает. Исключение смерти создает иллюзию бытия, которая есть экзистенциальный вакуум, небытие.
Человеческое мышление, которое хочет и может глядеть в глаза смерти, есть мышление иных измерений, чем то, которое от смерти отворачивается и о смерти забывает.
Лев Шестов
Эта установка на интеллигибельно-спекулятивную ясность, как-бы забывающую главный вопрос о тлении и смерти, появилась задолго до христианства, ещё у некоторых греков. И такие люди, как схоласты (причем схоласты всех мастей, а не только Альберт с Фомою) затащили её назад в христианство. И теперь вся культура христианской ойкумены на этой установке логической ясности и необходимости стоит. Шестов называет эту установку «небытием par-exellence», или «совершенным небытием». Вот вам небольшая подборка его мыслей из разных книг по этой теме:
Умозрительная философия, которая часто представляет себя в виде христианской религии, пытаясь сохранить ту торжественность настроения и речи, на которую дает право возвышенность старается, по крайней мере на глаз торопящихся людей, сблизить и подменить умозрительной философией, данницей ’Ανάγκη, необходимости, подменить собой истинную мессианскую веру, единственную истинную религию.
А если сдружиться со смертью, если пройти сквозь игольное ушко последнего страшного одиночества, оставленности и отчаяния – может быть, удастся вернуть заветное τη̃ς ε̉μη̃ς βουλήσεως (по Его воле, греч.), то древнее, изначальное, властное jubere (повелеваю — лат.), которое мы променяли на безвольное, автоматическое, но спокойное parere (исполняю — лат.).
Надо преодолеть страхи, надо, собрав все свое мужество, пойти навстречу смерти и у нее попытать счастья. Обычное «мышление», мышление человека «повинующегося» и отступающего пред угрозами нам не даст ничего. Первый шаг: приучить себя не считаться с «достаточным основанием».
Пусть Эпиктет или кто угодно грозит, что он обрежет нам уши, выколет глаза, заставит пить уксус или цикуту, – мы не станем слушать его угроз, как необходимость не слушает наших увещаний.
Душа человека при сильной радости или сильной скорби по поводу чего-нибудь, – говорит Платон, – принуждена (α̉ναγκάζεσθαι) то, по поводу чего она это испытывает, считать наиболее очевидным и совершенно истинным, хотя это и не так обстоит…
Каждое удовольствие и каждое огорчение имеет при себе точно гвоздь и прибивает душу к телу, и прикрепляет её, и делает её подобной телу, так что она начинает думать, что то истинно – что тело считает истинным.
Когда человек боится, его можно пугать и, напугавши, принудить к повиновению. Но для «философа», который побывал на окраинах жизни, который прошел школу смерти, для которого α̉ποθνήσκειν (умирание) стало реальностью настоящего и τεθνάναι (смерть) такой же реальностью будущего, страхи не страшны. Смерть он принял и со смертью сдружился.
Ведь умирание и смерть, ослабляя телесный глаз, в корне подрывает власть ничего не слышащей ’Ανάγκη (необходимости — греч.) и всех тех самоочевидных истин, которые этой ’Ανάγκη держатся. Душа начинает чувствовать, что ей дано не покорствовать и повиноваться, а водительствовать и повелевать (α̎ρχειν και̉ δεσπòζειν, Платон, Фед. 64a), и в борьбе за это свое право она не побоялась перелететь за ту роковую черту, где кончаются все ясности и отчетливости и где обитает Вечная Тайна.
Её sapientia (мудрость-лат.) уже не meditatio vitae (размышение о жизни — лат.), a meditatio mortis (размышление о смерти-лат.).
Лев Шестов
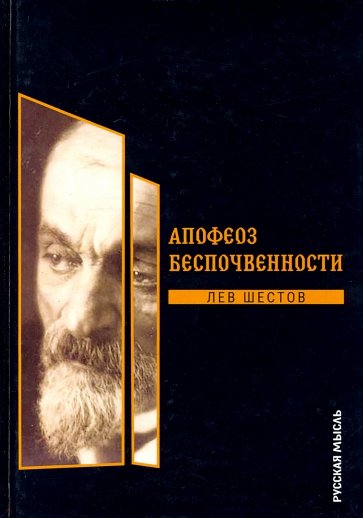
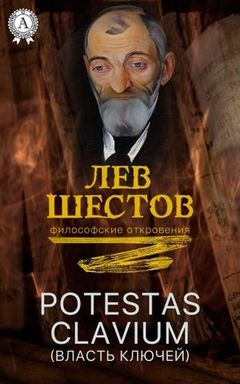


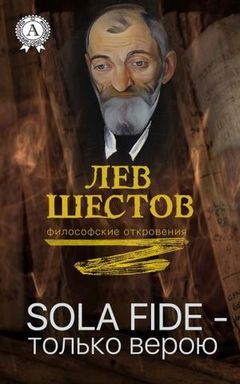



Вот вам шестовская панорама подмены. Подмены бытия логической необходимостью. Эта необходимость бытийно беспочвенна. Она разрывает ткань бытия и вытаскивает человека в придуманный и спекулятивный, безжизненный и творчески мертвый мир формальных силлогизмов и логической необходимости сугубо рационального, сущностного, не экзистенциального дискурса.
Она порабощает, не оставляет выбора, погружает в матрицу силлогистического рабства мысли и духа:
Необходимость выбора не разрешает – если хочешь обрести право и свободу выбора, нужно покинуть ту плоскость, где осуществляется её власть, не останавливаясь ни пред какими невозможностями, и, прежде всего, раз навсегда пренебречь всеми justi tituli (нормами, титулами, авторитетами), сковавшими не только наше мышление, но и бытие наше.
Лев Шестов
В «Апофеозе беспочвенности» Ш. всю, по сути, известную ему культуру (Европы первой половины 20 века), называет временем апофеоза такой необходимости, которая лишена жизненной почвы, связи с глубинными основаниями и смыслами бытия.
ДИТРИХ БОНХЁФФЕР попадает в мой список тех, кто очень даже непосредственно участвует в раскрытии тайны Ничто, не случайно. Он, пожалуй, первый и чуть ли не единственный в своем роде христианский мыслитель, который мужественно решился переосмыслить всё христианство до конца в свете полного согласия с антиклерикальным, антиспекулятивным и антирелигиозным крестовым походом Фридриха Ницше. Основываясь, во многом, на идеях Ницше и Кьеркегора, он окончательно разводит вопросы религии, долга и этики (его главная тема) с одной стороны, и веры — с другой.

В своей «Этике» ему удается продумать вопрос их взаимоотношений между собой. Он их разводит как предпоследние вещи (этические, религиозные, правовые), и последние вещи — божественную реальность (веры).
Нужно изначально отказаться от не подобающих существу дела вопросов: Как я становлюсь добрым? Как мне совершить доброе? Вместо этого необходимо ясно поставить вопрос о воле Бога. Это требование непосредственно связано с решениями, касающимися последней действительности — реальности Бога.
Действительность Божья является последней действительностью. Принятие решения по отношению к ней касается целостности всей жизни.
Последняя действительность оказывается одновременно и первой действительностью, и Бог являет себя как Альфа и Омега.
Только первая — тайная, сокрытая, а последняя — откровенная, явная Его действительность.
Дитрих Бонхёффер, «Этика»
Он ставит вопрос ребром, говоря, что мы поставлены перед последним решающим вопросом : с какой действительностью мы хотим считаться в нашей жизни — с последней действительностью или т.н. жизненными реалиями. И для него это различие настолько же радикально, как различие между воскресением и смертью.
Согласно Бонхёфферу, без обретения образа ecce homo, образа настоящего человека, всякое видение и познание вещей превращается в абстракцию, утрату истока и цели. Только в обретении даруемой в откровении настоящести человеческой, в благом бытии последней действительности обретает смысл вопрошание о благости нашей. Вопрос о благе для нас или благе нашем и моём, обретает свое ответ только в ecce homo — в образе «просто» или «настоящего» человека. Который есть образ вочеловечившейся божественной действительности.
Истоком подлинного бытия у Д.Б. не может быть ни действительность собственного Я, ни действительность мира, ни действительность норм и ценностей (всевозможных принципов), ни действительность разума, но только последняя божественная действительность, даруемая в откровении о Человеке. Только в нём мы обретаем себя. Но даже само откровение Д.Б. понимает не традиционно, а как «вочеловечение последней (божественной) действительности». Быть может для кого-то это просто другие слова о том же. Но для меня это в корне отличается от того, что проповедуют и что доносят современные религиозные институты.
Вопрос о благе (а значит и о вере и об истине бытия) у него превращается в вопрос о причастности к открытой в образе вочеловечившегося Бога последней действительности. Благо больше не свойство меня. Оно, собственно, им никогда и не было. Но я раньше этого не знал. Оно не является просто оценочным суждением себя или другого, не сводится ни ко мне, ни к моим принципам и убеждениям. Но благо есть сама действительность. Но действительность полная, последняя. Вся действительность истины бытия. Здесь нужно перестать разрывать то, что изначально едино, показывает он. Поскольку те, что останавливаются в предпоследнем, в принципах и убеждениях, соглашаются на небытие. На жизнь не собой. На жизнь без стремления вочеловечиться по-настоящему. Но, с другой стороны, миновать предпоследнее невозможно, поскольку оно есть тень и образ последнего в нашем существовании в «обезбоженном» и «совершеннолетнем» мире, в нашем разуме, в наших представлениях, в нашей культуре.
Сам по себе храм предполагался как дверь в последнее, которая после откровения ecce homo не нужна. Ecce homo не нуждается в рукотворных религиозных храмах и институциях, он их разрушает. Они ему больше не нужны. Их существование может быть оправдано только для тех, кто ещё не приблизился к пониманию Пути, поскольку предпоследнее по Д.Б. с неизбежностью присутствует в нашем поиске последнего как отправная область, выводя на границу между человеческим и божественным со стороны человеческого.
Жизнь, по Д.Б., есть устремленность из предпоследнего к последнему, а потому она должна быть открыта последнему и ожидать его. Являть ответственную готовность к его явлению. Останавливающиеся и закрывающиеся в предпоследнем теряют всякую связь не только с божественной, но и с собственно человеческой реальностью. Для таких людей Бог, этика, закон, религия есть предпоследние вещи, которые поставлены на место последних. Хотя сами предпоследние вещи есть не более чем человеческие предположения и гипотезы, спекулятивные разговоры о якобы знании последних вещей. Тем самым предпоследнее делается для них псевдо последним таким образом, что обеспечивает им «аварийный выход» из всякой ответственной жизни. Вместо честного признания того, что они не нашли Бога в обезбоженном мире вообще.



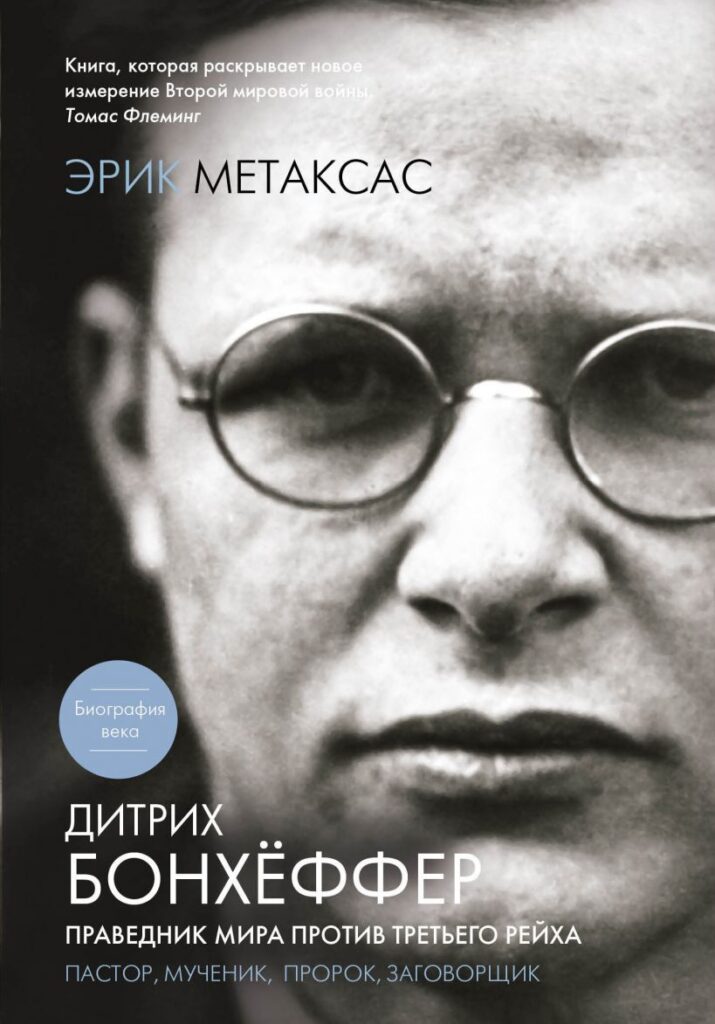
Бонхеффер — являясь инициатором теологического проекта «безрелигиозного христианства», признающего смерть Бога в культуре и религии полностью обезбоженного мира, — принципиальный антиметологист в вопросах движения от предпоследнего к последнему, от этики и морали, долга и религии, закона и права — к вере.
Он считает, что любой метод собственно человеческого движения от предпоследнего к последнему будет являться лживой спекуляцией. И от него нужно отказаться. Переход из ничтойности предпоследнего в полноту бытия последнего принципиально не имеет никакого человеческого, а значит искусственного, метода. Из отношений человека с действительностью последних вещей, действительностью божественной, нельзя создать, как ни пытайся, никакой честной системы. Напротив, как только начинается серьезный разговор о подобном методе, сразу же встаёт вопрос методологической мертворождённости (псевдо) последних вещей, их безусловной лицемерной подмены. По выражению самого Бонхеффера на такое могут согласиться только интеллектуально нечестные люди.
Всякий человеческий метод будет очередной формой движения в предпоследнем. К последним вещам, последней реальности, к раскрытию истины бытийной полноты он привести не сможет. Ну а поскольку мы всё ещё во власти всевозможных «человеческих, слишком человеческих» методов попадания из предпоследних вещей в последние, мы в небытии. В самообмане. В интеллектуальной аморальности. В духовной мертворожденности. В деятельном Ничто. И не важно, какого характера эти методы — светские и атеистические или религиозные и теистические. Настоящий переход человека из предпоследнего в последнее, когда и если он действительно совершается, есть качественно благодатный скачок в жизни того, кто встает на путь честности с самим собой до конца, додумывния себя и своей роли в мире до конца:
- в интеллектуально и экзистенциально честном не нахождении Бога;
- в интеллектуально и экзистенциально честном обнаружении себя в Ничто;
- в по-ницшеански интеллектуально и экзистенциально честном отвержении мертвого Бога мертвой «монофизитской» религиозности современной культуры;
- в честном отказе от придуманных аварийных выходов и спекулятивных умозрительных гипотез о последних вещах.
Только на этом пути может произойти или не произойти переход к последнему. Но, поскольку мы мастера подмен, страха за собственную шкуру и самообмана, возможность того, что переход может и не произойти при всех усилиях тоже остаётся существенным риском и (не) бытийной возможностью, которые необходимо со всей ответственностью признавать.
Переход этот, если и произойдёт, будет как бы «сам по себе», не по нашей инициативе, а по инициативе извне — по какой-то причине жаждущего вочеловечиться Духа. Всё, что мы можем — открыться и подготовиться к «хождению вослед» действительности последних вещей. Когда мы готовы и открыты, эта действительность может (если захочет), шагнуть нам встречу. Для Бонхеффера главное не метод, а ответственность, которая приводит к самопознанию себя как просто человека. К признанию себя человеком. К принятию на себя полноты ответственности быть и жить человеком.
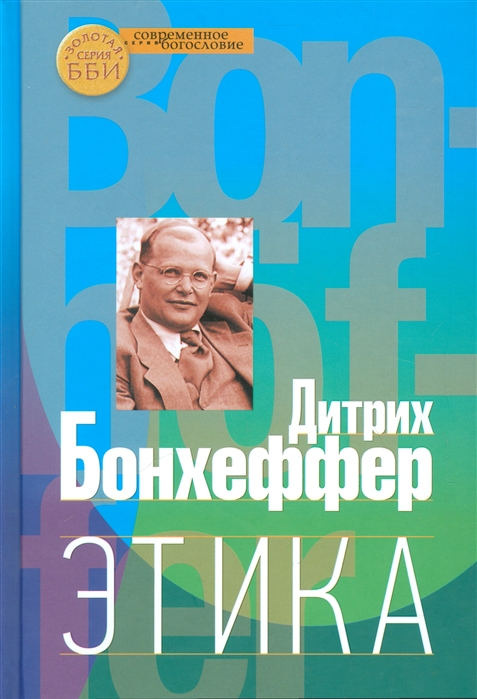


Для Д.Б. нормально сомнение в Боге. Проверка Его на реальность вплоть до полного отвержения всего, что проверку эту не проходит. Для него также нормально и обычно, и правильно полностью отказаться не просто от решения вопроса спасения, но даже от самой постановки этого вопроса. Ему также очень близка идея не называния, не произносимости имени божьего вообще, по крайней мере до тех пор, пока нет уверенности в том, что это не пустой разговор и не спекулятивные мёртвые гипотезы. Поскольку ответственное принятие себя и действительности себя как она есть, без самообмана и прикрас, приводит к очищению себя от религиозной скорлупы менеджмента грехов и спасения или, что ещё более актуально для его времени — скорлупы этического и насквозь правового (законнического) современного ему либерального культур-протестантизма. От подмены веры этикой. От сектантской веры в свою собственную веру, подменяющей драгоценную благодать ничтожной — изделием собственного изобретения, в которой каким-то конформистским и принудительным образом человек оказывается убежден что уже спасён а значит и свободен от ответственности. Причём убежден даже не логически, а на уровне пугливого и оглуплённого собственными страхами наивного сознания. От скорлупы идеологической ориентации на идеального, придуманного человека. От искусственного образа того, какими мы должны стать благодаря «покаянию», которое в современной религиозной культуре стало скорее синонимом уклонения от ответственности за свое бытие человеком, нежели передаёт тот простой факт экзистенциального признания необходимости разворота от безответственности к ответственности за становление и хранение себя человеком.
Именно так Д.Б. понимает покаяние — как.становление на путь всё более осознанного приятия ответственности за осуществления своей человечности. Именно в этом для него заключается смысл исповеди. Такая постановка вопроса приводит его к пониманию, что все почти современные разговоры о спасении есть до мозга костей искусственная спекуляция пугливого и бегущего ответственности человеческого разума. Также для него все разговоры о грехе и сами понятия греха и покаяния в современной культуре есть следствие давно состоявшейся подмены ответственности за себя, жизнь и свой мир здесь и сейчас безответственностью убегания в мир иной — подмены нахождения себя как себя (того, что Кьеркегор называет «выбором себя») нахождением и выбором не себя, а какой-то идеальной «спасённой» модели себя, которой в действительности не существует. Такая позиция приводит его к переориентации внимания с конформистской захваченности религией как оглупляющей идеологией, на ту человеческую ответственность, которая нам действительно доступна — единственно возможную ответственность — постараться жить как просто человек. А не уклоняться от неё.
Эта ответственность связана для Д.Б с насколько возможно более серьезным отношением к осуществлению пути труда, власти, семьи, образования и самообразования, духовно-аскетических практик (подлинно церковных, которые он противопоставляет культур-религиозным практикам долга и этики). Причём, в отличие от традиционно-церковного понимания аскезы, у него аскеза должна и может осуществляться исключительно в самой гуще культуры без всякой пугливой оглядки на оглупляющей конформизм безответственного за себя и других религиозного сознания, пытающегося убежать в пустыню. Для Д.Б. такое бегство является ярчайшим свидетельством подмены. Когда бегущий в пустыню трусливо избегает ответственности за единственный известный нам мир, в котором мы живём, посредством бегства в умозрительный мир иной, которого — Д.Б. убежден — просто не существует. Если и есть какие-то способы спастись, они могут быть только в этом мире, только здесь. Если и есть ангелы и демоны, невидимый Дух и последняя действительность Христа, то они есть прямо здесь, в этом мире, в гуще нашего сегодняшнего существования. Про другой мир мы НИЧЕГО не знаем. Нет никаких двух пространств житейского и духовного, светского и религиозного. Есть один мир и одна жизнь, за которые человек несёт полную ответственность.
И здесь находится самый, пожалуй, радикальный вызов мысли Бонхеффера для всякого религиозного сознания: он утверждает, что если мы действительно хотим сохранить эту открытость последним вещам, нам нужно избавиться от религиозного языка думания и говорения о них вообще. Почему? Потому что этот язык преступно и бесповоротно стал языком описанной выше подмены. Именно таким образом по Д.Б. выражается действительная открытость и готовность к последним вещам. Ниже я сделал подборку своих выдержек из одно из писем Д.Б. домой из тюрьмы, собранных в публикации «Спустя десять лет», кторое он написал на день крещения своего племянника.
— Не нам предсказывать будущее, но придёт день, когда люди снова будут проповедовать слово божье так, чтобы мир от этого менялся и обновлялся.
— Это будет новый язык, возможно, совсем не религиозный, но такой же освобождающий, как язык Иисуса…
— Наша Церковь, которая все эти годы боролась за своё выживание так, как будто это было самоцелью, не способна быть носительницей примиряющего и освобождающего слова, обращенного к людям и миру.
— Поэтому прежние слова должны потерять силу, а наше теперешнее христианство будет состоять из двух компонентов: молитвы и праведного поведения.
— Всё, что в христианстве касается мышления, проповеди и организации, должно быть заново рождено из этой молитвы и этого поведения.
— Всякая попытка раньше времени придать церкви формы организационной силы, будет только препятствовать её обращению и очищению.
— Будет проходить ощущение потребности в качественно новом отношении к человеческим ценностям, таким как справедливость, труд, мужество.
— Будет формироваться новая элита людей, которым будут даны большие властные полномочия.
— Ради исторической справедливости нам придётся отказаться от своих привилегий.
— Возможно, произойдут события, которые перечеркнут и наши желания, и наши права.
— По своему опыту мы знаем, что не может планировать даже завтрашний день, что всё, что мы построили, может быть разрушено за одну ночь и что наша жизнь, в отличие от жизни наших родителей, стала бесформенной и фрагментарной.
— И тем не менее, я не хотел бы жить ни в какую другую эпоху, кроме нашей, даже если она перешагивает через наше личное счастье.
— Сегодня мы яснее, чем в других времена, осознаём, что мир находится в гневных и милостивых руках Бога. У Иеремии есть такие слова: «… вот, что Я построил, разрушу, и что насадил, искореню — всю эту землю. А ты просишь себе великого: не проси; ибо вот, я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда ни пойдёшь» (Иер. 45:4).
— Если наша душа осталась невредимой после разрушения земных благ, нам этого должно быть достаточно.
— Когда сам Творец разрушает своё творение, можем ли мы жаловаться на разрушение дела наших рук?
— Не нашему поколению суждено снова ждать «великих вещей», наша задача — спасти свою душу от хаоса, сохранить её и понять, что она — единственный «трофей», который мы выносим из горящего дома.
— Нам придётся скорее претерпевать, нежели формировать свою жизнь; больше надеяться, нежели планировать, более ждать, нежели продвигаться вперёд.
— Но мы хотим сохранить вам, новому поколению молодых людей, душу, из которой вы будете черпать силы для новой и лучшей жизни, для строительства и планирования.
— Мы слишком были погружены в свои мысли и полагали, что каждый поступок можно предварить анализом всех вариантов.
— Мы слишком поздно поняли, что не мысли, а способность взять на себя ответственность является источником действия.
— Соотношение между мышлением и действием будет для вас меняться. Вы будете думать только о тех поступках, за которые должны будете ответить.
Дитрих Бонхёффер, «Мысли на день крещения Дитриха Вильгельма Рюдрига Бетге», май 1944.
«Вочеловечение» — главнейшее для него слово. Причём это не привычное из традиционной догматики вочеловечение Бога. НО вочеловечение человека . Он утверждает, что единственный способ идти к полноте бытия — это поиск себя в действительном и подлинном поиске возможностей «хождения во след» вочеловечению последних вещей, образа ecce homo, явлению их в нас, это открытость к вочеловечению их в своих жизненных практиках, а никакая не этика, не закон, не формула, не метод, не доктрина.
И никакие не чудеса. И не долг, и не религия. Никакие не идеальные поступки и мысли.
«Лучше, когда хороший человек сделает плохое, чем когда плохой — хорошее».
Дитрих Бонхеффер «Хождение вослед»
Лучше, когда человек, идущий путем такой готовности ошибается, чем не идущий поступает правильно. Поскольку первое есть путь куда нужно, а второе — обман и соблазн для идущих туда, куда нужно. Всякую идеальность он также развенчивает как спекуляцию. Где есть идеализация есть опять проваливание в небытие предпоследних вещей. Есть забвение бытия. Антиметолологизм Бонхеффера теснейшим образом связан с его же концептом «драгоценной благодати». Как только появляется «метод» благодать обесценивается. Метод предполагает искусственную и спекулятивную идеализацию практик. Боязнь «запачкаться» от не идеального мира приводит к асоциальной самоисключенности из ответственной гражданской деятельности и настоящей борьбы с несправедливостью. Так вера и становится религиозной спекуляцией. Бытие превращается в небытие. На сцену выходит социальная и всякая другая безответственность. Спасание жизни превращается в спасание собственной шкуры. Поскольку идеальное и идеологическое как самоцель есть подмена жизни, человек теряет творческий потенциал ответственности, перестает жить в гуще культуры и начинает практиковать религиозный, этический, законнический метод ухода от ответственности, уводящий его в экзистенциальный вакуум ещё в разы дальше, чем если бы он вообще этим не занимался.
В этом смысле Бонхефферу ближе люди не религиозные и подчас совсем не верующие, но деятельно участвующие в процессах принятия ответственности за себя, свои поступки, за других, за общество, за культуру, чем доминирующее в современной культуре сообщество интеллектуально нечестных, находящихся во власти самых различных форм страха, самообмана и конформизма, людей предпоследних вещей. Тут важно дополнить, что он не о так называемом «неверующем мире» здесь говорит. Он здесь, прежде всего, говорит именно о людях религиозных. При этом он с лёгкостью преодолевает религиозные границы, приветствуя интеллектуально и экзистенциально честный и ответственный поиск жизни человеком в самых различных традициях. К примеру у Махатмы Ганди.
МАРТИН ХАЙДЕГГЕР. Следующий и, возможно, «главный по бытию» у нас автор — Мартин Хайдеггер. Будучи современником Бонхёффера (он родился раньше, а умер позже него) он дитя той же постницшеанской немецкой культуры, не так давно открывшей для себя Кьеркегора в переводах с датского на немецкий. Хайдеггеру удалось прожить значительно дольше и совершить значительно больше, чем Бонхефферу. Хайдеггер, в отличие от Бонхеффера, не противостоял фашизму в Германии, а, по началу, даже приветствовал его. Но это не должно умалять для нас его вопрошания о человеческом бытии как о присутствии (дазайн), открывающем тайны истинной полноты бытия вещей, выводящем их из потаённости. Что есть главный и единственный вопрос его творчества.

Весь могучий аппарат своей динамично развивающейся мысли Хайдеггер направляет на феноменологическую / экзистенциальную аналитику путей забвения и обретения такого бытия как бытия-присутствия (дазайн). Начав с первичного описания бытия как времени (времени человека) и бытия как присутствия во времени в «Бытии и времени» он в позднем творчестве выходит на главное свое прозрение По крайней мере для меня пока) — об опасности и, одновременно, спасительности техники. В этом прозрении ему удается значительным образом продвинуть человеческое мышление о бытии, взятом не абстрактно и умозрительно, как у схоластов, а как деятельное присутствие истины бытия / забвения истины бытия в человеческой повседневности.
Сначала определив бытие / небытие как деятельное присутствие / не присутствие человека (дазайн) во времени, нацеленное на выведение истины вещей из потаённости, он озадачивается вопросом: а что этому мешает и какие риски и опасности это несёт?
Почему, по какой причине человеческая культура потеряла даже само вопрошание об истине бытия? Причем потеряла давно. Забыла сам вопрос о полноте истины бытия как о полноте насыщения времени человека про-изведением истины вещей из их потаённости. Как раскрытие тайны вещей.
Он находит ответ в существе техники. Он показывает, что, с одной стороны, существуют разные способы раскрытия потаённости истины вещей во времени, а, с другой, главным способом такого раскрытия в современности стала техника. Техника, в её современном значении, построенная на формальной логике естественно-научных расчетов и поставленная как главный способ раскрытия истины бытия вещей у нас перед глазами, является как раз таким вот способом обращения с тайной вещей, который выводит тайну бытия из непотаённости. Делает она это через то, как человек применяет свои естественно-научные и логико-математические знания для раскрытия тайны вещей. Одновременно Хайдеггер указывает , что в в любом изведении истины вещей (не только техническом) из их тайны в непотаённость, таится опасность пропустить истину их бытия для самого человека, а лишь признать эту истину наличной и полезной для использования — обналичить истину» в инструмент потребления. Опасность признать истину бытия лишь хорошим и нужным инструментом использования без осуществления бытия этих раскрытых тайн вещей во времени для себя. Без вочеловечивания этих истин. Таким образом в технике да, осуществляется выведение истин из непотаённости. Но не для осуществления человеческого бытия как присутствия хранящего истину бытия, а лишь для использования истин бытия вещей как наличной данности, как ресурса для пользы потребления человека.
При этом Х. демонстрирует, что такая опасность присутствует в любом процессе про-изведения истин из потаённости — опасность не хранения, пропуска истин бытия вещей, обратного сокрытия их в новых, уже артефактных (рукотворных) потаенных вещах (Я не встречал этой мысли обратного сокрытия у Х., но мне она кажется естественным продолжением его размышлений — ИГ). Но в технике эта опасность доходит до предела, поскольку само существо техники изначально родилось в тотальном забвении бытия человеком и не преследует цели вывода истины бытия вещей из их потаённости ради осуществления полноты истины бытия человека человеком. А ставит истины бытия вещей на инструментальную переработку в целях использования . Точно также, как в технике истина бытия вещей воспринимается как инструмент для использования человеком, точно также и сам человек рискует стать таким же техническим инструментом.


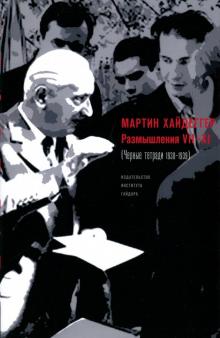


Х. описывает этот риск так:
Коль скоро (в техническом раскрытии тайны вещей — ИГ) непотаенное захватывает человека даже и не как объект, предстоящий человеку, а уже исключительно как состоящее-в-наличии, человек… становится просто поставителем этой наличности – он ходит по крайней кромке пропасти, а именно, того падения, когда он сам себя будет воспринимать уже просто как нечто состоящее в наличности» .
Мартин Хайдеггер, «К вопросу о технике»
Современный человек у Х. есть «поставитель» наличности истин бытия вещей. Тот, кто ставит их на некую искусственную рукотворную основу, подставку. Здесь появляется слово, которое у Х. характеризует технический способ выведения истин бытия вещей из непотаённости. Бибихин переводит его как «по-став», но, в принципе, это просто «подставка», искусственная основа. Х. говорит, как я его понимаю, о том, что в технике добытые истины бытия перерабатываются в некую подставку, в некую искусственную основу для произведения пользы.
Я перетолковываю это для себя следующим образом: «Вот есть какая то извлечённая из потаённости истина бытия вещей, она состоит в наличии, да. Но меня не волнует хранение этой истины. Мне не нужна она сама, но мне лишь важно и нужно извлечь из неё новые инструменты, новые способы извлечения пользы для себя». Здесь человек выводит истины бытия вещей из непотаённости не для них самих, а для их эксплуатации. Человек обналичивает истины бытия для их потребления. И он действительно близок к тому, чтобы обналичить самого себя.
Мало того, он не только не считает это зазорным, но, напротив, считает это своим величайшим достижением. Гордится этим. И эта гордость собственными техническими успехами лишает его способности даже просто продиагностировать глубину проблемы. Хайдеггер говорит:
«Как раз под этой нависшей над ним угрозой человек раскорячился до фигуры господина земли… Начинает казаться, что человеку предстает теперь повсюду уже только он сам… Между тем на самом деле с самим собой, т. е. со своим существом, человек сегодня… нигде уже не встречается».
Мартин Хайдеггер, «К вопросу о технике»
Почему? Да потому что отдаваясь раскрытию потаённости способом технического по-става, человек уже никак не связывает это раскрытие с актуализацией существа самого себя, а лишь с актуализацией своих новых возможностей потребления. По поводу потери собственного бытия собой он уже совсем не задумывается. Ему всё равно, что будет с бытием, с природой и сущностью вещей, истина которых раскрыта. Он поставляет их на потребление себе. Но себе уже не вполне как ответственному за своё бытие человеку, а как человеку-потребителю, как человеку, самому становящемуся подставкой для технической переработки истин бытия вещей.
И вот эта завороженность техникой — её почти волшебной магией многократного умножения способов и возможностей потребления, — приводит к отбрасыванию всех других способов про-изведения тайны вещей как поэзиса, как творчества и как присутствия.
«Где правит постав (как базовая технология извлечения тайны вещей -ИГ), на всякое раскрытие потаённого ложится печать управления, организации и обеспечения всего состоящего в наличии… Изгоняется всякая другая возможность раскрытия потаённости. Главное, поставом скрадывается тот путь раскрытия тайны, который дает присутствующему явиться в смысле произведения (самого человека как произведения — ИГ), поэсиса».
Мартин Хайдеггер, «К вопросу о технике»
Простите за столь многое количество моих, как мне кажется важных для понимания замудренного текста Хайдеггера, комментариев.
Здесь нам придётся немного осмотреться на территории вопроса об управлении и организации. Означает ли сказанное Х., что к нему теперь нужно относиться негативно? Как человек, большую часть жизни посвятивший изучению теории управления и практическому управлению, скажу, что нет, не значит. Ведь речь идет не об организации и управлении вообще. Речь исключительно об осуществлении «управления, организации и обеспечения всего состоящего в наличии«. А значит здесь разговор исключительно об управлении тем, что Хайдеггер называет «состоящим в наличии». Это как раз управление тем способом изведения из непотаённого, которому он антрибутирует термин «по-став» и который технологически осуществляется в техническом производстве. Давайте по порядку разберемся, что происходит в управлении этими «состоящими в наличии» истинами бытия вещей:
- Истина бытия каких-то вещей выводится из непотаённости естественно-научным образом. Например, электрического разряда или энергетической мощности природных энергоресурсов. По простому говоря — эта истина открывается, обнаруживается, верифицируется, описывается, документируется и становится (делается) инструментом инновационного развития техники.
- Затем эта истина инженерным образом организуется для превращения её в как можно более эффективные инструменты для человеческого использования. Например в освещение, двигатель внутреннего сгорания и т.п. таким образом добытая истина превращается в технический артефакт человеческой деятельности для целей развития потребления.
- После этого такая уже использованная для целей потребления истина перестаёт быть способом раскрытия тайны вещей сама по себе. Нас уже не интересует почему мир так устроен. Мы не идём дальше путём раскрытия истины энергии вещей самих по себе, мы не стремимся относиться к этим истинам как к истинам бытия вещей, а лишь как к инструменту для использования. Да мы никогда и не стремились к этому, говоря откровенно. Желание открытия и хранения истины бытия вещей в нас само по себе, априори, не присутствует. Мы по-ставляем добытую истину на служение себе, на использование, на потребление, и идем дальше. Хотя нам остаётся совершенно невдомёк, как эта истина связана со всей истиной бытия и к каким последствиям такое поставление истины об энергии, содержащейся в вещах, в инструмент потребления, приведёт в долгосрочной или даже среднесрочной перспективе.
- Истина вещей, таким образом, приоткрывается не для целей осуществления полноты бытия, но лишь как инструмент потребления. И затем закрывается.
- Накопление таких техногенных истин приводит человека к многократному умножению техногенных рисков, когда таким образом управляемые и организуемые как просто имеющиеся в наличии для целей использования и потребления истины дают знать об искусственности и бытийной ничтойности (можно сказать и бытийной непорядочности) использования себя таким образом во всё возрастающих техногенных угрозах.
- Эти угрозы приводят нас к необходимости обращаться к этим истинам по-новой, но, как правило, опять сугубо утилитарным образом. Это приводит социум к развитию сложных дисциплин управления, таких как управление рисками, управление безопасностью и даже управление знанием, познанием и интеллектуальным капиталом (т.н. когнитивное управление). Но, опять же, управление это, насколько бы изощренным оно ни было или не становилось, несёт в себе по-став как некий системообразующий фундамент, который всячески избегает хранения истины вещей как именно истины вещей, а не как инструментов потребления и использования, не как способов переработки природы в технические артефакты и, в конечном итоге, в угрозы — имя которым сегодня уже легион, а также в мусор и металлолом.
- Из вышесказанного уже не сложно понять, что если продолжить во времени эти тенденции управления и организации утилитарными естественно-научными истинами вещей, как состоящим в наличии техническим поставом, пригодным для использования — без поиска, нахождения и хранения целостности их природной истинности,- всё, рано или поздно, кончится тем, что и сам человек, и его среда обитания, будут также полностью переработаны в такие же технические артефакты, в какие человек преобразовывает всю остальную природу.
В итоге:
«Господство постава грозит той опасностью, что человек окажется уже не в состоянии вернуться к более исходному (нацеленному на раскрытие и хранение истины собственного бытия как присутствия. — ИГ) раскрытию потаенного… Постав встает на пути свечения и правления истины. Миссия, посылающая на исторический путь поставления действительности (как технического инструмента для использования — ИГ), есть поэтому высший риск».
Мартин Хайдеггер, «К вопросу о технике»
Если перевести это на управленческий язык в поставе не истина бытия вещей управляет человеком, а человек управляет истиной бытия вещей. Это не просто опасность, но опасность крайняя, в которой не просто можно, а изначально как-бы задано «проглядеть непотаенное и перетолковать его (из «поэсис’а» в нечто иное — ИГ)». Опасность, которая присутствует в любом поэсисе, про-изведении, как таковом. Но проблема по-става значительно масштабнее, поскольку концептуально и установочно несёт уже в самой себе глубочайшую трагедию забвения бытия как свою отправную позицию.
Важно отметить, что утрата связи человека с истиной и полнотой времени собственного бытия, произошедшая ещё до появления постава — это утрата, поставом лишь выявляемая и эксплуатируемая. Но благодаря поставу, всё больше всё больше заполняющему собой всё время человека, человек рискует остаться с инструментами использования бытия вещей, но вообще без собственного присутствия в этом бытии. А это, по Х., сродни уходу человека именно как человека из времени, из бытия вообще. Снятию с себя всякой ответственности за осуществление собственной человечности во времени. Отказу быть человеком. Отказу быть. Который Х. мужественно обнаруживает в современной человеческой повседневности.
Причём, и это важно для нашей темы, современным существенным драйвером такого отказа оказывается, на мой взгляд, и… традиционная религиозность, которая уже на уровне догматики оказалась втянутой в постав и, во многом, оправдала и институционализировала постав.
Для Хайдеггера время человека — это место осуществления возможности быть, способ осуществления раскрытия тайны собственного бытия. Но, видя эту возможность он экзистенциально-аналитически диагностирует её тотальное забвение и неиспользованность ( причём ему совершенно всё равно в каких языках и как это выражается — религиозно или нет, научно или по-бытовому).
Забвение бытия для Х. есть экзистенциальная данность. Так получилось, что все мы исторически оказались «вброшенными» в это забвение бытия — в Кьеркегоровское «Ничто», в Шестовское «небытие par-eccellence», в бонхёфферовское «предпоследнее». В Ницшеанскую лживую и лицемерную религиозную мёртвость Бога и человека. Мы этого забвения не выбирали, но так получилось, что оно выбрало нас. Мы в нём родились.
Тем самым Хайдеггер, не смотря на всю сложность его языка, в котором ему постоянно приходится искать обходные по отношению к формально-логическим дискурсам «по-става» и «забвения бытия» слова, порой изобретая новые слова и новые, не спекулятивно-логические, но феноменально-экзистенциальные способы выражения мысли, широко и масштабно знакомит человека с собственной вброшенностью в Ничто. И ничего другого и сделать то пока не возможно. Можно только попробовать сделать это яснее, чем получилось у Хайдеггера. С разной степенью ясности и корректности его многочисленные комментаторы этим и занимаются. Почему невозможно? Потому что раскрытие потаённости собственного бытия самого человека есть для Хайдеггера поле творческого поэсиса, а не логического дискурса. Он не дает нам ответа на вопрос что есть бытие, истина бытия. Хотя и задаёт вектор движения как движения к жизни «в просвете бытия», в «хранении истины бытия». Но он отвечает нам на вопрос что есть небытие, забвение бытия, деятельное Ничто «состоящего в наличии» инструментального знания истин о бытии вещей как постава.
И вот именно в этом открывается Хайдеггеру ещё одно, уже позитивное, прозрение. Оказывается, не смотря на всю опасность, таящуюся в инструментальном способе эксплуатации тайны вещей в технике, техника таит в себе ростки спасительной возможности выхода из сложившейся ситуации забвения истины бытия. Поскольку техника, пусть и в извращенной форме, впервые за долгие столетия забвения подводит (или, точнее, может подводить нас) к возврату к вопрошанию о забвении бытия. Современная действительность через полвека после Х. показывает нам, что, не смотря на наличие в технике такой возможности, она нами по большей части всё ещё не используется. Но возможность действительно теперь есть и именно благодаря технике вопрошание о ней приближается к повседневности.
Хайдеггер выражает это цитатой из Гёльдерина:
Где опасность, там вырастает и спасительное».
Фридрих Гёльдерлин, Из гимна «Патмос»
Он видит в самом процессе нашего человеческого осознания вброшенности в Ничто, который так или иначе может происходить в осмыслении существа техники (и до появления техники не возможный) ростки спасительного разворота от забвения бытия к возможности хранения истины бытия. Сама вброшенность им, как я уже упоминал, просто обнаруживается. Он не говорит, что он открыл нечто особенное. Он просто, следуя Кьеркегору, проясняет и именует человескую действительность такой, каковой она является сейчас — вброшенной в Ничто. Но вот сам процесс осознания, во многом, осуществляется самим Хайдеггером, как и теми, кто идёт перед ним, вместе с ним и за ним.
Выявить и проанализировать эти ростки для него становится важнейшей задачей и концептуальной, и практической. Ему важно как мысленно описать возможный путь этого поворота, так и выявить (или не выявить), существуют ли хотя бы намеки на этот поворот в нашей современной действительности. Он говорит:
«Во-первых, по- став втягивает (человечество) в гонку поставляющего производства, которое совершенно заслоняет событие выхода из потаённости и тем самым подвергает риску самые корни нашего отношения к существу истины. Во-вторых, сам по- став в свою очередь осуществляется путем того осуществления, которое позволяет человеку пребывать – до сих пор неосознанно, но в будущем, возможно, это станет более ощутимым – в качестве требующегося для хранения существа истины. Так поднимаются ростки спасительного».
Разбираясь с существом техники человек, таким образом, может обнаружить себя как того, кто необходим для выявления и хранения существа истины. Человеку требуется присутствовать во времени именно в осознании себя как хранителя самого процесса выявления, выведения из непотаённости и осуществления истины бытия. Причём присутствовать осознанно. Отрефлексированно. Иначе он рано или поздно полностью переработает в постав всё, включая самоё себя.
Иначе говоря, как говорит С.С. Хоружий, комментируя Х., постав, не смотря на все его колоссальные риски расчеловечивания, имеет
генетическую связь с исконной природой человека как присутствующего хранителя бытия вещей, с призванием человека как Пастуха бытия.
С.С. Хоружий, «Социум и синергия: колонизация интерфейса»
А экспоненциальный рост техногенных угроз приводит к тому, что человек начинает глубоко озадачиваться существом техники, и вот здесь-то и способен он наткнуться на спасительные пути от забвения к хранению, от Ничто к Полноте про-изведения истины бытия.
В своём выступлении «Поворот» Х. характеризует эти ростки. Показывая, что поворот начинается тогда и только тогда, когда угроза по-става идентифициорвана. Иначе поворот произойти и не может. Только тогда, когда «опасность опознана как опасность» она становится движущей силой радикального изменения человека. Этот «поворот, превращающий забвение бытия в хранение истины бытия», по Хайдеггеру, может и должен произойти в одночасье, не постепенно:
Поворот, превращающий опасность в спасение, совершится вдруг. При этом повороте внезапно высветлится свет бытийной сути.
Как философ Х. принципиально оставляет в стороне вопрос о Боге в точности в том же ключе, как это делает Ницше. Можно сказать, что у Х. нет никакого вопрошания о Боге. Он даже неоднократно упоминает, что его разговор о бытии это не разговор о Боге. Значит ли это, что Х. атеист? Этого тоже нельзя утверждать. Но что понятно, что вопрос о том, кто стоит за истиной бытия не является фокусом его исследования. Он лишь ищет её саму ради неё самой.
Что для меня важно и что, одновременно, важно для жизни человека здесь и сейчас у Х., так это то, что техника есть и предельный риск и предельная возможность современности. От того, сможет ли человек осмыслить технику как поэсис и отвергнуть её поставляющее производство ради поэсиса, зависит выживание человека и, возможно, уже в совсем не далёком будущем.
Подводя итог этого размышления хочу отметить, что:
- Процесс превращения самого человека в постав уже начался по крайней мере с момента, когда человек стал высчитываемой в деньгах экономической единицей.
- Он продолжился процессом превращения человека в курсор на электронной карте.
- Следующим шагом, по видимому, будет превращение человека в QR код на фоне искусственно-техногенно спровоцированной ухудшающейся эпидемиологической ситуации.
- В социологическом плане пока не видно даже существенного намёка на хайдеггеровский поворот.
- Возможность программы поворота от постава к поэзису интересна, но пока совершенно не ясно, насколько она возможна.
- Ясно, что в греческой античности смысл слова «техне» был принципиально иным. И что, в принципе, возможно возвращение к «техне» как к «поэсису». Но важно выявить и/или развить те заинтересованные силы, которые готовы осуществить эту возможность.
- В древнем «техне», как одновременно и в мастерстве ремесла, и в мастерстве искусства превалировал акцент на раскрытии и хранении истины. Есть ли сегодня те, кому это важнее, чем эскалация потребления? Есть ли те, которые готовы полностью пересмотреть свою программу потребления ради существенной реформации социума в экосистему, открытую и настроенную на хранение истины бытия вещей. Экосистемы, которая созидает гармонию между человеком и явленной истиной бытия, когда не истина подчиняется и управляется человеком, а, скорее, наоборот, человек подчиняет себя и позволяет управлять собой явленной и высвеченной в поэсисе истиной.
- Это потребует радикального пересмотра принципов управления на всех уровнях. Но, возможно, если Хайдеггер прав, вследствие каких-то неожиданных событий это произойдёт… внезапно.
- Захочет ли человечество или хотя бы его существенная часть осуществить этот поворот от забвения к полноте бытия — вот в чём вопрос. И только после этого следует спрашивать — сможет ли?
- Я назвал 5 имён и немного охарактеризовал поиск этих 5 выдающихся людей. Можно было бы назвать и описать больше или меньше. Но это те, с чьим творчеством я знаком достаточно глубоко и чьи мысли я в какой-то не совершенной степени усвоил. У каждого свой язык, своя манера. Но объединяет их один общий всем интерес, который я могу попробовать, хотя и не без некоторых сомнений, охарактеризовать как «поиск действенного способа управлять искусством быть».
- Почему я не выбрал никого после Хайдеггера? Не потому, что некого, а потому, что после него, на мой взгляд, пока никто не дотягивает ни до его масштаба мысли, ни до глубины погружения тему. Всё, что мы пока имеем во всех гуманитарных науках после Хайдеггера — это пока еще процесс осмысления тех вопросов, которые он поставил.
- Мне кажутся интересными те варианты осмысления Х., которые в философии, социологии и теологии дают такие разные Мишель Фуко и Рене Жирар, Деррида и Делёз, Зизиулас, Яннарас и Хоружий, Маннусакис и Коначева, Бергер и Лукман, Капуто и Керни.
- Мне лично наиболее важным представляется круг вопросов, связанных с поиском действенной модели управления искусством быть в процессах воспитания и образования человека, поскольку именно здесь находится кузница нашего общечеловеческого будущего . Эти вопросы наиболее близким мне образом звучат в «Синергийной антропологии» С.С. Хоружего и в «Антропологии будущего» А.Г. Асмолова.
- Развернуть хайдеггеровскую задачу «поворота техники в спасительную сторону», в программу управления образованием на основании фундаментально-онтологической (то есть укорененной в решении вопроса бытия как основного вопроса) антропологии (то есть человекознания, построенного на про-изведении истины бытия) — вот та сверхзадача, которой стоит, на мой взгляд, посвятить время и исследовательские усилия, если мы не хотим окончательного установления царства по-става как логического конца бытия человека человеком.
- Но, конечно, есть множество сил, которые не видят в техническом поставе и забвении бытия никакой угрозы а, напротив, приветствуют восход постчеловеческой звезды на земном небосколоне.
Подборка книг современных авторов по теме:
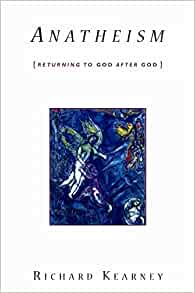
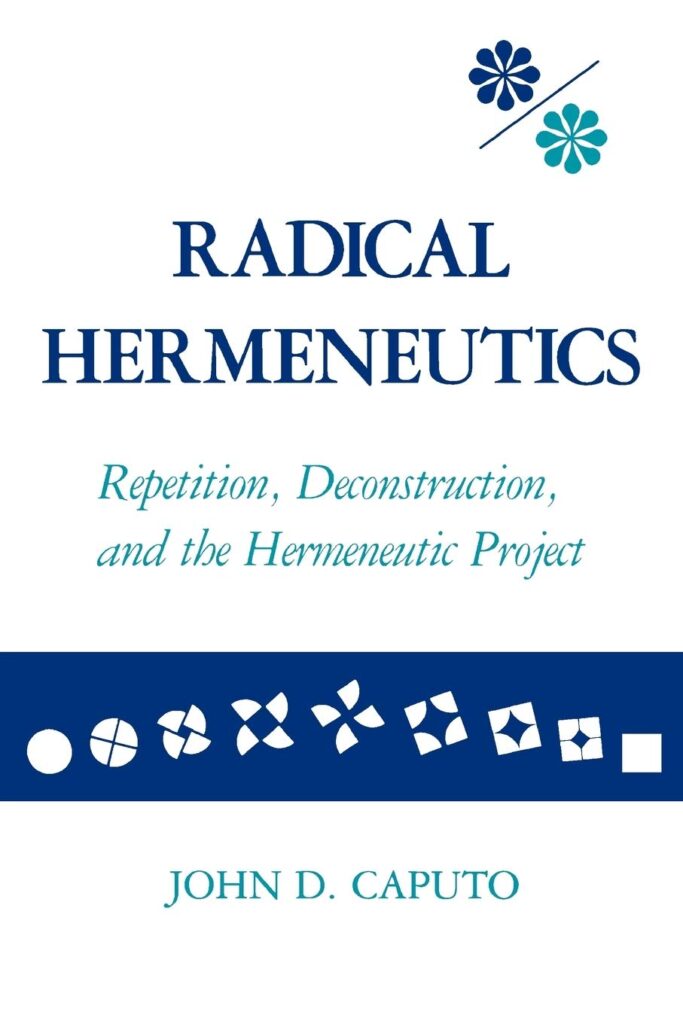

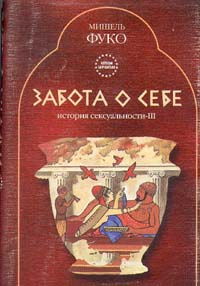





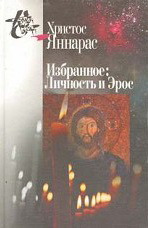
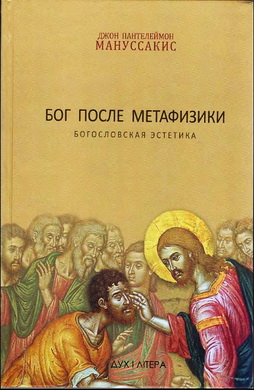

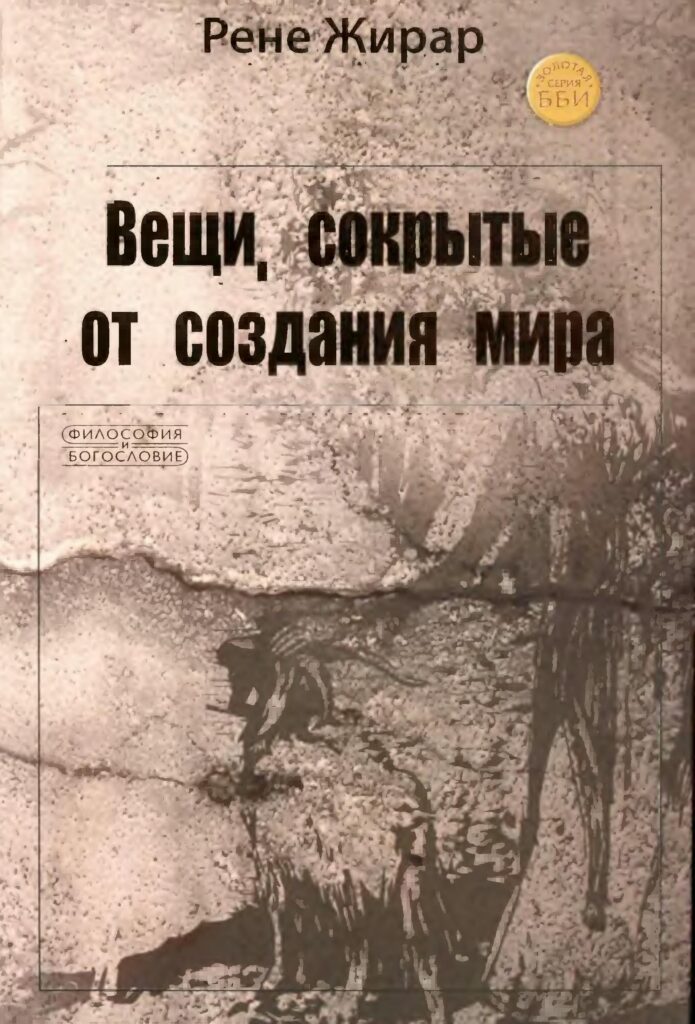

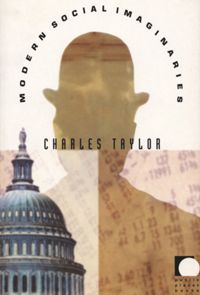
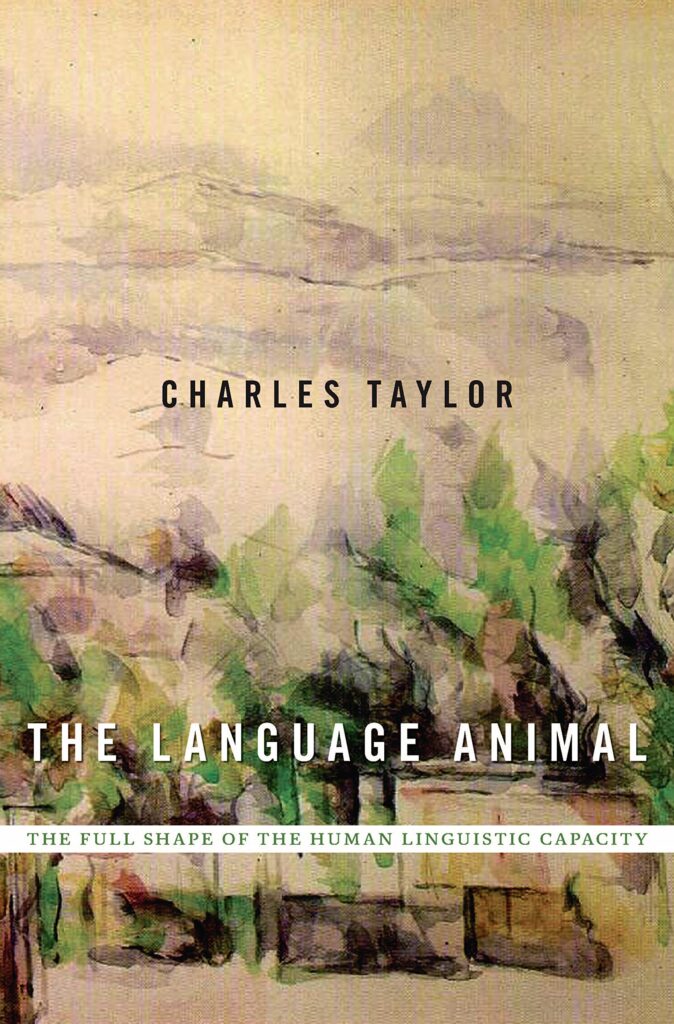
© текст: Илья Гункин

